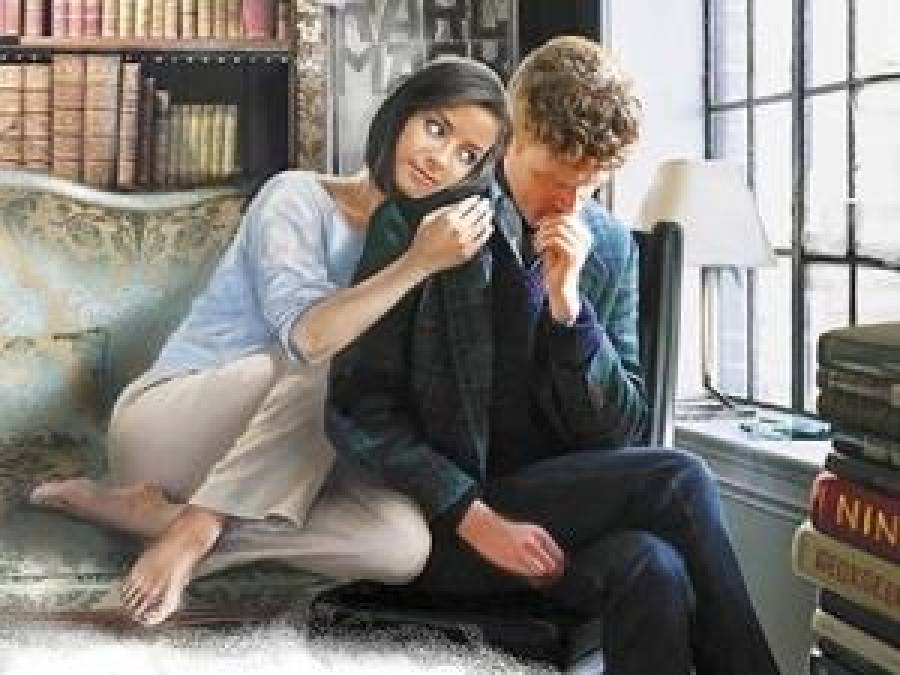Предпоследний, 2012-го года, роман британского мэтра, только что вышедший на русском, кажется специфически актуальным именно для современной России. И ничего,что действие происходит в Англии начала 1970-х. Актуальной выглядит сюжетная завязка: «Сластена» -- кодовое название спецоперации МИ-5, решившей мобилизовать британских писателей на идеологическую войну. Против, разумеется, Советского Союза – у которого пропаганда поставлена несравненно лучше, и это отставание англичане стремятся сократить. Так что «правильные» авторы, чей патриотизм заботливо, но тайно поощряется спецслужбами, получают и признание, и вознаграждение, а некоторые – вроде Тома Хейли, которому Макьюэн, кажется, подарил собственные ранние черновики – еще и молодую кураторшу от контрразведки в постель. Впрочем, кураторша Сирина влюбляется в «подшефного» совершенно искренне (еще бы, ведь это сам молодой Макьюэн).
Ничем хорошим, как водится, это для нее не заканчивается. Но сообразить: «Это провал!» придется к финалу не только макьюэновскому Штирлицу в юбке, но и макьюэновскому читателю – главный сюрприз ждет именно его. Потому что роман – не про любовь и спецслужбы, а про литературу. Про то, что всесилие автора в тексте и его возможности манипулировать читателем не снились никакому Большому Брату.
Валерий Шубинский, «Зодчий. Жизнь Николая Гумилева». М.: Corpus, 2014.
Когда фантасты Лазарчук и Успенский сделали Николая Степановича Гумилева главным героем своей трилогии «Посмотри в глаза чудовищ»/«Гиперборейская чума»/«Марш экклезиастов», это не выглядело ни пошлостью, ни дикостью. Персонажем героической и экзотической сказки сделал себя в первую очередь сам Гумилев, выстроив собственную биографию по лекалам романтической литературы. Любовная драма, путешествия, приключения, «Святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь», расстрел по обвинению в недонесении – эта поэма предназначена для читательского восхищения, а не для препарирования любителями поверять алгеброй гармонию.
Но поскольку за рифмованными и нерифмованными строками все-таки стоит реальная личность, хочется узнать, как все было на самом деле – и в этом смысле книга поэта и историка литературы Шубинского очень недурное подспорье.
Ю Несбё, «Сын». СПб.: Азбука, 2014.
Перед нами только-только вышедший на русском и вообще совсем новый – текущего года – роман главного норвежского детективщика современности. Первый после окончания знаменитой серии о Харри Холле, принесшей Несбё мировую славу и, в частности, обеспечившей его преданным русским фан-клубом.
Понятно, что главный герой – главное в детективной серии, но важны и прочие элементы: место действия, атмосфера, интрига, саспенс. В этом смысле невосполнимую утрату инспектора Холле автор компенсирует поклонникам бережным сохранением всего, к чему они прикипели душой: города Осло в качестве подробно прописанного задника, пагубных пристрастий, коррупции, оргпреступности, зверства, повального психологического неблагополучия и прочих неотъемлемых – согласно Несбё – черт скандинавского процветания.
Я как-то уже писал о премии, полученную Несбё «за создание положительного образа родины в мире» -- надо обладать нетривиальным чувством прекрасного, чтобы гордиться такой Норвегией, какой она предстает в трудах данного автора. Едва открыв «Сына», убеждаешься, что Несбё продолжает любить родину все той же странной любовью: тут вам и норвежская резня бензопилой, и наркомания, и полицейский с психологическими проблемами и сложным прошлым.
Что же касается сюжета, то в новом романе Несбё делает кокетливый, хотя и не особо оригинальный ход: разворачивает традиционную детективную схему задом наперед. Кто убийца, в «Сыне» известно заранее, а тюрьма фигурирует уже на первых страницах романа: вместо того, чтоб завершиться заключением в нее, действие начинается с побега оттуда.
Филипп Перро, «Роскошь». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014.
Слово «гламур», главное заклинание нулевых, все больше звучит анахронизмом – даже К. А. Собчак давно олицетворяет либеральную фронду и социальную журналистику. Понятно, однако, что роскошь как один из главных человеческих фетишей и стимулов никуда не делась и не денется – благо возникла она вместе с человеческим социумом. В этом смысле нет принципиальной разницы между древнеримским оратором, поливающим вином деревья, и нынешней дурехой, обклеивающей стразами «мерседес».
Будучи порождением социального и экономического неравенства, показное расточительство так или иначе сопутствовало всем общественным формациям. А иногда и способствовало их смене (известно, ЧТО началось с фразы: «Нет хлеба – пусть едят пирожные»). Книга французского историка Перро носит подзаголовок «Богатство между пышностью и комфортом в XVIII-XIX веках», но читается как довольно актуальное исследование – чего-чего, а социального и экономического неравенства вокруг по-прежнему предостаточно.